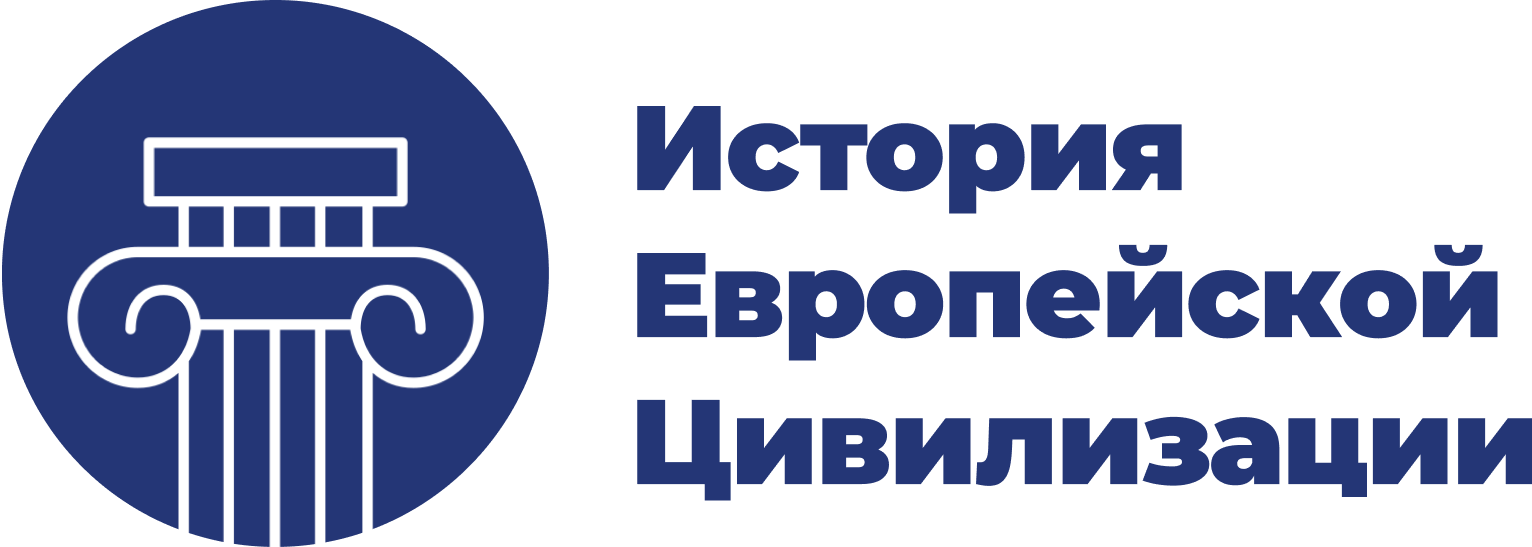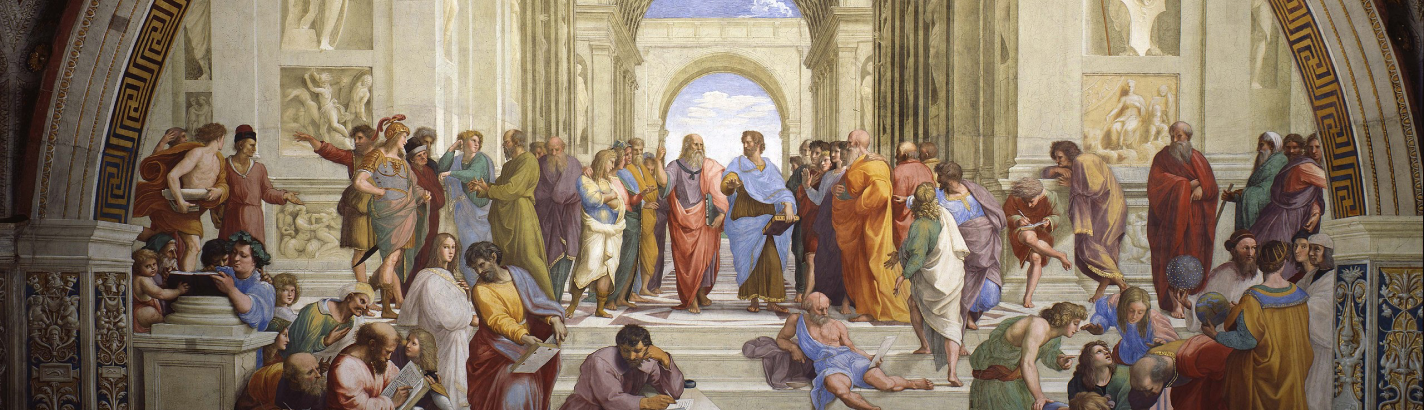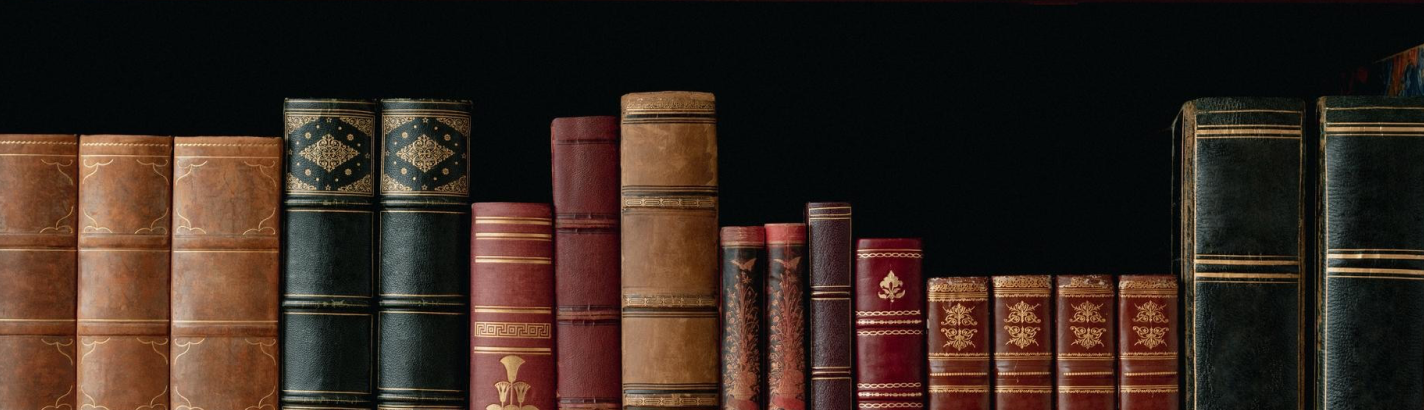Автор проекта
Юрий Анатольевич Шичалин
Юрий Анатольевич Шичалин (род. 1950) — доктор философских наук, филолог-классик, переводчик, издатель. Работал секретарем у великого философа А. Ф. Лосева. Выступал с докладами в Сорбонне (Франция), Тринити-колледже (Ирландия), участвовал в конференциях в университетах Италии, Германии, Швейцарии, Англии; стажировался в Écolenormale supérieure, как приглашенный профессор дважды читал лекции в Коллеж де Франс (Франция).
В 1990 году открыл издательство и курсы древних языков под названием «Греко-латинский кабинет». В 1993 году учредил Классическую гимназию при Греко-латинском кабинете — одно из первых учебных заведений, в котором после советского периода была возрождена модель классического образования.
Кроме того, благодаря трудам Юрия Анатольевича на русский язык были переведены многие классические тексты античности.
-
О России и Западе
Мы уже ясно показали миру, что мы сторонники и защитники традиционных европейских ценностей, традиционного брака и семьи, которые сейчас подчеркнуто попираются на Западе, традиционных европейских свобод, в том числе свободы слова. И теперь мы должны показать, что мы и в области образования хотим двигаться в основном русле европейской цивилизации, внутри которой мы появились как христианское государство и были соответствующим образом воспитаны.
Сейчас нам очень важно осознать, что европейская цивилизация, к которой мы принадлежим, ни в каком смысле не сводится к современной западной цивилизации, и если мы будем ясно это понимать, мы перестанем мыслить западноевропейскими штампами, о которых мы часто даже не подозреваем, потому что, увы, мы привыкли безоглядно доверять Западу.
Что же касается того вопроса, который Вы поставили, то не классическая филология сама по себе, а возрождение в России на новом этапе сети классических гимназий как скрепы нашей системы образования позволит нам воспитать россиян с действительно широким кругозором и умением самостоятельно мыслить, и в силу этого — уверенно чувствовать себя в современном многополярном мире.
Еще раз повторю: именно это я считаю сегодня нашей главной патриотической задачей. Но при этом нельзя не добавить, никто не может заставить нас взяться за решение этой задачи, если мы сами не осознаем ее как нашу глубокую внутреннюю потребность и приоритет в области образования.
из интервью журналу «Фома» №2(190) – февраль 2019 -
О «светских» науках
Христианин не должен чураться так называемых «светских» наук. Наоборот, он призван, насколько это в его силах, совершенствоваться в них, постигать ту мудрость, которая в них сокрыта. Совсем не обязательно быть язычником, чтобы читать и понимать тексты Аристотеля, как их знал и использовал в своих творениях святитель Василий Великий. У христиан того времени была твердая уверенность: самые чуткие и мудрые души всегда восприимчивы к тому, что открывает им Бог. Подлинное познание мира всегда происходит вместе с Богом, Он дает человеку верные ориентиры, направляет его ум в нужную сторону.
Поэтому можно сказать, что образ ученых святых — это и есть концепция христианского образования. Но, как говорил митрополит Сурожский Антоний, «пока ты не святой, будь образованным». Святые побуждают нас к этому, и нам необходимо учиться у них стремлению к мудрости, к подлинной образованности.
из интервью журналу «Фома» №2(190) – февраль 2019 -
О «хорошей советской школе»
Когда говорят о «хорошей советской школе» — а она была, — не всегда понимают, что имеют в виду сравнительно небольшой, но очень важный период, связанный с деятельностью Владимира Петровича Потемкина, выпускника тверской классической гимназии и историко-филологического факультета Московского университета.
В 1940–1946 годах Потемкин был наркомом просвещения РСФСР. По указанию Сталина Потемкин стал проводить реформу школы, которая шла в значительной степени параллельно с интенсивным развитием военных учебных заведений и прочими преобразованиями в армии. Тогда в армию, в частности, была возвращена форма, схожая с прежней, царской, были введены погоны и жесткая иерархия. Точно так же многие установки дореволюционной школы, отмененные революцией и деятельностью трудовых школ, были снова взяты на вооружение.Были созданы новые программы, включавшие, в частности, зарубежную литературу, введены домашние задания и экзамены после окончания начальной, неполной средней и полной средней школы, появилась школьная форма, одно время на этой волне проводилось раздельное обучение мальчиков и девочек. В среднюю школу были также введены элементы классического образования: в ряде школ началось преподавание латыни: в таких школах успели поучиться наши замечательные филологи-классики Гаспаров и Аверинцев.
-
О «хорошей советской школе»
Но с хрущевских времен для развития такого рода школ в стране уже не было ни понимания, ни сил, так что сильной стороной нашего образования стали специальные, прежде всего математические и языковые, школы, — разумеется, без древних языков и Закона Божия. Рабфаковец Хрущев обещал тогдашнему поколению жизнь при коммунизме уже в 1980-е годы и грозился показать последнего попа. Это хорошее свидетельство духовного и интеллектуального кругозора тогдашнего партийного руководства.
Но в 1980–1990-е годы произошло, как известно, нечто совсем иное. Обращу Ваше внимание на то, что именно в это время — уже не из-за репрессий, а просто в силу возраста — уходили из жизни последние гимназисты. С этим обстоятельством для меня имеют прямую связь все метаморфозы этого времени. Именно в силу угрозы физического перерыва традиции полноценного классического образования в нашей стране мы и хотели создать школу не только с сильной математикой или с хорошим преподаванием современных языков, но и с древними языками, а также с Законом Божиим.
из интервью журналу «Фома» №2(190) – февраль 2019 -
О мотивации
Поскольку я преподаю в высших учебных заведениях, то я вижу, что иногда самая большая трагедия бывает у мотивированных детей, потому что они хотят заниматься на первом курсе, они много работают, и их рвения хватает на год, на полтора, потому что они не привыкли работать… То есть их школа не научила работать, поэтому серьезную нагрузку большую интеллектуальную они выдерживать не в силах. Даже если хотят.
Я ведь обратился к этой сфере, Греко-латинский кабинет появился в конце концов потому, что когда-то в свое время, еще в школе, я понял, что я люблю две вещи: одна вещь — это поэзия, а другая вещь — это философия. Вот я где-то с 14–15 лет начал читать Канта, и он как был, так и остается одним из моих любимых философов, и я не смущался тем, что это русский перевод, мне это в голову не приходило. Но меня стало задевать, что я не понимаю латинские цитаты, которые Кант обильно рассыпает…
А поскольку отец позаботился, чтобы у меня был Куно Фишер, я читал биографию Канта по Куно Фишеру, и он там показывает, что Кант, когда он учился в Collegium Fridericianum, что он огромное внимание уделял и любил страстно древние языки — греческий, латинский, и он хотел одно время стать филологом-классиком и так далее. Я понял: надо изучить латинский язык…
Переученный левша — это трагедия, но человек, которого вообще не учат толком писать, который пишет, как хочет, — это тоже трагедия, потому что для детей это необходимый навык, определенная моторика, нельзя детей превращать в существо с одним пальцем, которое нажимает кнопки и так далее.
из программы «Парсуна» -
Учитель и ученик
Вы знаете, Алексей Федорович Лосев – а я с ним встретился, когда он был в очень преклонных уже годах, – он сохранил совершенно молодую любовь и увлеченность к тому, чем он занимался, это было абсолютно поразительно и для нас. Я помню, мы с ним читали какой-то текст по истории Возрождения, и оба наслаждались. То есть я читал с наслаждением, потому что мне нравился текст, он читал, потом слушал, и ему этот текст нравился, и мы потом его почти целиком внесли в один из томов его «Истории эстетики». Совместное наслаждение авторами и текстами — это было самое важное.
Представьте, какой опыт дают настоящие учителя: вместе с ними можешь быть уверен, что занимаешься тем, чем нужно. Мы вместе работаем над определенным автором, над определенным смыслом, вместе можем читать и вместе получать удовольствие.
Это не значит, что во всем нужно быть согласным. Мы с Алексеем Федоровичем были во многом не согласны, и он этого не скрывал, он, по-моему, на защите у меня выступил: «Вот с Шичалиным ни в чем не согласен, а поддерживаю», и мне это казалось естественно и правильно, потому что люди должны поддерживать друг в друге сам факт определенного отношения к материалу, характеру работы и так далее. Вот и я тоже: мало ли с чем я не соглашался с Алексеем Федоровичем, но от этого он не перестает быть той фигурой, какая есть.
из программы «Парсуна»
«Греко-латинский кабинет»
Ю. А. Шичалина
Под руководством Юрия Анатольевича издательство выпускает книги по истории, философии, культуре античности и раннего христианства. Среди изданий ГЛК — лучшие в России учебники по древним языкам, а также репринтные издания словарей по древнегреческому и латинскому языкам.
ГЛК издает классические тексты на древнегреческом и латинском языках с переводами, научными статьями и комментариями, прилагает большие усилия для переводов лучших трудов европейских авторов XX века, занимающихся античностью и средневековьем.
Книги ГЛК предназначены для вузов, классических гимназий, лицеев, духовных школ и для всех, кто интересуется древними языками и классическим наследием Европы.
«Греческо-русский словарь» А. Д. Вейсмана
«Ars grammatica» А. М. Белова
«Учебник древнегреческого языка» А. Ч. Козаржевского
«История античного платонизма» — Ю.А. Шичалин, ГЛК, 2001
«Античная литература» Д. Дилите (2003, в переводе Н. К. Малинаускене) Ю.А. Шичалин
«Словарь трудных слов из богослужения» — О.А. Седакова, ГЛК, 2008, переплет, 430 стр.
«История римской литературы» (издана в трех томах в 2002–2005-х, перевод А. И. Любжина, редактура А. А. Россиуса)
«Король Артур» — Ю.А. Шичалин, драма в 3-х действиях с прологом и заключительным хором. Художник В. Кирьянова